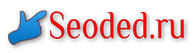В конце прошлой недели из США пришли две знаковые новости.
Во-первых, спецпрокурор Р. Мюллер завершил своё расследование, которое показало отсутствие критически значимого российского влияния на итоги президентских выборов 2016 г.
Лично мне всегда казалось, что если провал Х. Клинтон и был неожиданным, то случился он из-за решения главы ФБР Дж. Коми возобновить расследование её переписки всего за десять дней до выборов, а не из-за деятельности «кремлёвских агентов». Москва, конечно, хотела победы Д. Трампа, но реально помочь ему не могла. Выборы 2016 г. стали проигрышем демократов в большей мере, чем победой республиканцев — и в перспективе ситуация может повториться: потеряв «козырную карту» российского вмешательства, оппоненты Д. Трампа, вероятнее всего, «пустятся во все тяжкие» в своей социалистической риторике.
В 2016 г. стало ясно (хотя и не всем), что совокупность разного рода меньшинств не всегда может стать большинством; в 2020-м американцы, скорее всего, покажут политикам, что недовольство глупым и невоспитанным правым не является основанием для избрания левака(чки), готового(oй) перечеркнуть основы американского образа жизни — тем более, если непривлекательный президент не совершал никаких государственных преступлений. Обнародование результатов расследования Р. Мюллера станет мощным ударом по демократам, которым придётся задуматься о реалистичной повестке дня.
Во-вторых, в пятницу на торгах в Нью-Йорке доходность трёхмесячных облигаций американского Казначейства превысила доходность 10-летних бумаг, что означает недоверие инвесторов к вложениям в акции в долгосрочной перспективе.
Согласно исторической статистике ФРС, наступление рецессии вскоре после такой инверсии доходностей неизбежно: в разные периоды кризис начинался через 12-24 месяца после подобного события. Но, добавлю я, рецессия происходит с некоторым лагом после первых биржевых паник (хотя бы потому, что её началом считаются два квартала последовательного сокращения ВВП), поэтому потрясения на фондовых рынках могут быть ещё ближе. И если они случатся, уничтожая основные достижения президентства Д. Трампа (в частности, рост фондового рынка почти на 45% за два с половиной года), этот фактор перевесит все сомнения в достоинствах демократических кандидатов.
Нечто подобное мы уже видели на выборах 1992 г., когда рецессия, случившаяся в экономике в 1990-1991 гг. и ставшая триггером безработицы, неуклонно повышающейся вплоть до лета 1992-го, стоила поста вполне успешному республиканскому президенту Дж. Бушу-старшему и во многом предопределила победу Б. Клинтона.
Сегодня, стоит предположить, у президента Д. Трампа времени осталось довольно мало: наиболее вероятный срок начала экономических проблем — лето 2020 г., а история последних кризисов показывает, что за шесть-восемь месяцев падение основных фондовых индексов может составить 25% (в 2002 г.) — 33% (в 2008-м г.), что вполне сведёт на нет «трамповский» прирост. Выиграть выборы при полном отсутствии внешнеполитических успехов, предельно поляризованном обществе и на фоне обрушивающейся экономики — дело не из простых. Так что фраза «It’s economy, stupid!», столь замусоленная в начале 1990-х, может снова стать главным объяснением американских политических пертурбаций — вместо уже набившего оскомину обсуждения «русского следа».
И это, по крайней мере, будет верно отражать современную реальность, в которой все «кремлёвские потуги» — ничто, по сравнению с хаотическим движением фондовых рынков.
Автор: Владислав Иноземцев.